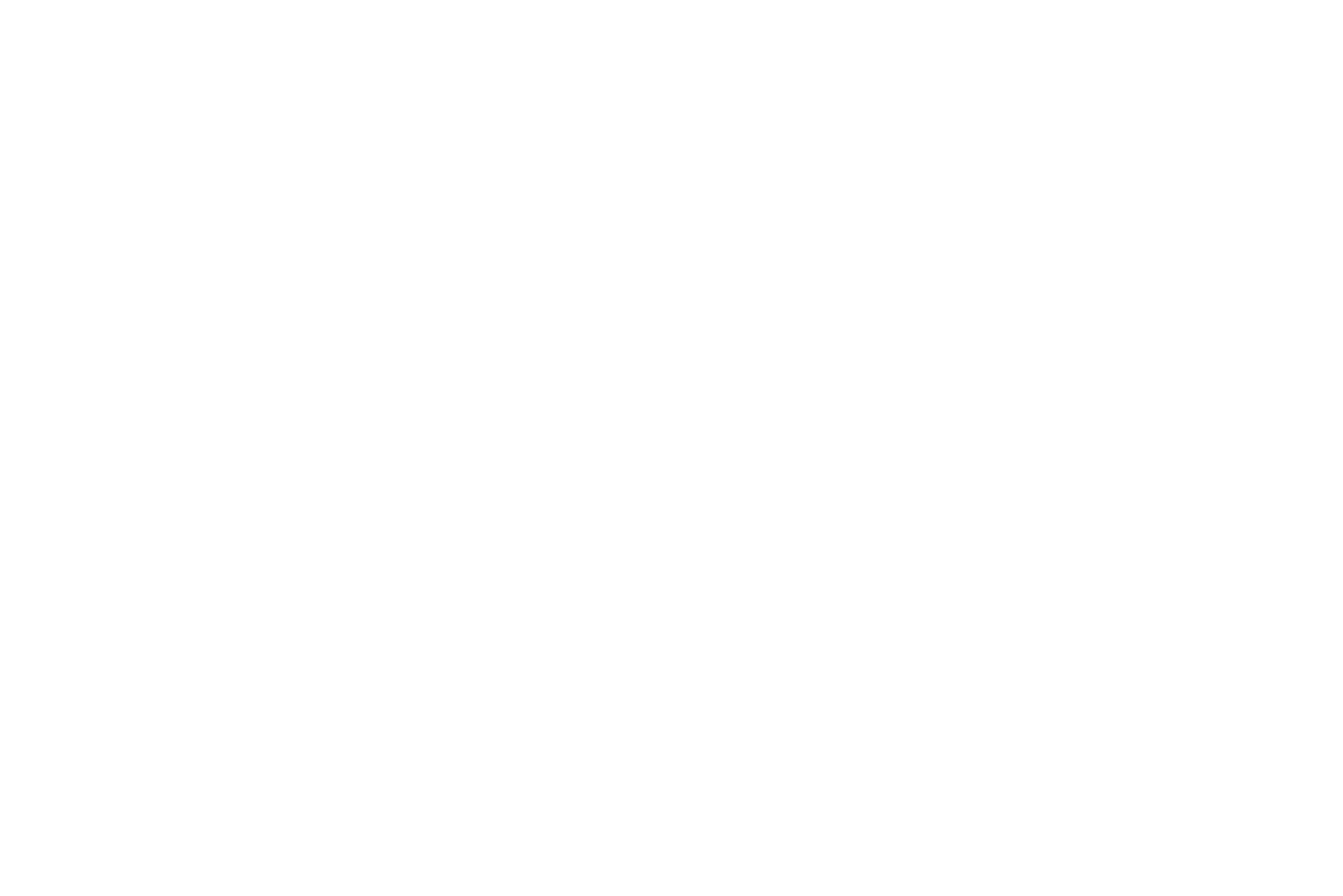
Новости Сельской Жизни
Оставьте ваш e-mail, чтобы получать актуальную информацию от редакции газеты Сельская Жизнь.
Семья в куче – не страшна и туча...
Державные заботы императрицы Екатерины Алексеевны привычно распределялись между двумя большими блоками – общими, государственными и частными, фамильными. По временам, в зависимости от обстоятельств, на первый план выходили то одни, то другие хлопоты. Крестьянские мероприятия сменялись ратными бранями, а таковые, в свою очередь, плавно перетекали в административно-законодательные порывы. Однако родственные связи никогда не выпадали из поля зрения мудрой и дальновидной властительницы. И все это – в царских чертогах мелочей не бывает! – смотрелось одинаково важно и значимо. В конце 1786 года обострились главным образом домашние тревоги.
Державные заботы императрицы Екатерины Алексеевны привычно распределялись между двумя большими блоками – общими, государственными и частными, фамильными. По временам, в зависимости от обстоятельств, на первый план выходили то одни, то другие хлопоты. Крестьянские мероприятия сменялись ратными бранями, а таковые, в свою очередь, плавно перетекали в административно-законодательные порывы. Однако родственные связи никогда не выпадали из поля зрения мудрой и дальновидной властительницы. И все это – в царских чертогах мелочей не бывает! – смотрелось одинаково важно и значимо. В конце 1786 года обострились главным образом домашние тревоги.
Разве только под пьяную руку
Надо признать: старший брат великой княгини Марии Феодоровны, герцог Вюртембергский Фридрих, доставил ее голубокровному супругу Павлу Петровичу крупные неприятности, хотя цесаревич относился к рослому и могучему сложением шурину самым приветливым образом. История тянулась издалека. Рассорившись когда-то еще в Берлине со своим августейшим тезкой кайзером Фридрихом II, скандальный аристократ подался в Россию и был назначен здесь выборгским генерал-губернатором. Небо определило ему в жены брауншвейгскую принцессу с мудреным именем Августа Каролина Фредерика Луиза – даму, которой искренне симпатизировала государыня Екатерина Алексеевна, называвшая ее на восточный лад Зельмирой.
К прискорбию, отношения брачной четы не задались изначально: муж и жена, по определению острой на словцо монархини, жили как кошка с собакой. Да и неудивительно, ибо тяготевший к солдафонской муштре и палочной дисциплине Фридрих не слишком выбирал средства для упрочения семейных связей: нередко он “побивал” свою половину, с удовольствием таская ее при этом за волосы. Более того, не страдавший излишней застенчивостью герцог подчас выносил свои эмоции, которые вообще-то следовало таить за стенами домашних покоев, на публику, “на люди”. Во время губернаторской службы в Выборге, вспоминала самодержица, “сцены – к великому соблазну целого края – часто случались за столом в присутствии местных чиновников, так что от приглашений на их обеды подчиненные бегали как от чумы”. Нетрудно представить себе, что творилось наедине, без свидетелей. Фридрих “заодно” не пользовался привязанностью ни управленцев, ни простонародья и как высокий администратор...
Однажды, в декабре 1786-го, наступила решительная развязка многолетней семейной драмы: когда Екатерина, посетив спектакль в Эрмитажном театре, вернулась в свою опочивальню, принцесса Августа упала на колени и, обливаясь слезами, умоляла защитить ее от свирепого мужа. Императрица вспыхнула: она оставила Зельмиру вкупе с четырьмя отпрысками в Зимнем дворце, а герцогу Фридриху отправила записку, в которой увольняла его в годичный отпуск, посоветовав употребить сей отгул как можно скорее и без лишних пересудов. Экс-губернатору надлежало немедленно покинуть русские пределы, чем серьезно опечалились цесаревич Павел и великая княгиня Мария. Но их заступничество никаких последствий не возымело: государыня была не на шутку разгневана поступками “удальца”.
Огорчение престолонаследной четы имело, помимо прочего, и весьма прагматичную подоплеку. Как позднее рассказывал вхожий в царские палаты князь Федор Голицын, Августа, благодарная за избавление от семейного “рая”, поведала Екатерине обо всем слышанном “на вечеринках у великого князя, хотя там большую всегда осторожность в речах употребляли, и великий князь сего чрезвычайно остерегался”. Да, когда дворцовая Золушка порвала с вюртембергским семейством, она сообщила августейшей покровительнице много разного и любопытного из интимного быта в Павловске, Гатчине, а равно заграничном Монбельяре, где жили родители Марии Феодоровны и где тоже велись порою “крамольные” беседы.
Разве только под пьяную руку
Надо признать: старший брат великой княгини Марии Феодоровны, герцог Вюртембергский Фридрих, доставил ее голубокровному супругу Павлу Петровичу крупные неприятности, хотя цесаревич относился к рослому и могучему сложением шурину самым приветливым образом. История тянулась издалека. Рассорившись когда-то еще в Берлине со своим августейшим тезкой кайзером Фридрихом II, скандальный аристократ подался в Россию и был назначен здесь выборгским генерал-губернатором. Небо определило ему в жены брауншвейгскую принцессу с мудреным именем Августа Каролина Фредерика Луиза – даму, которой искренне симпатизировала государыня Екатерина Алексеевна, называвшая ее на восточный лад Зельмирой.
К прискорбию, отношения брачной четы не задались изначально: муж и жена, по определению острой на словцо монархини, жили как кошка с собакой. Да и неудивительно, ибо тяготевший к солдафонской муштре и палочной дисциплине Фридрих не слишком выбирал средства для упрочения семейных связей: нередко он “побивал” свою половину, с удовольствием таская ее при этом за волосы. Более того, не страдавший излишней застенчивостью герцог подчас выносил свои эмоции, которые вообще-то следовало таить за стенами домашних покоев, на публику, “на люди”. Во время губернаторской службы в Выборге, вспоминала самодержица, “сцены – к великому соблазну целого края – часто случались за столом в присутствии местных чиновников, так что от приглашений на их обеды подчиненные бегали как от чумы”. Нетрудно представить себе, что творилось наедине, без свидетелей. Фридрих “заодно” не пользовался привязанностью ни управленцев, ни простонародья и как высокий администратор...
Однажды, в декабре 1786-го, наступила решительная развязка многолетней семейной драмы: когда Екатерина, посетив спектакль в Эрмитажном театре, вернулась в свою опочивальню, принцесса Августа упала на колени и, обливаясь слезами, умоляла защитить ее от свирепого мужа. Императрица вспыхнула: она оставила Зельмиру вкупе с четырьмя отпрысками в Зимнем дворце, а герцогу Фридриху отправила записку, в которой увольняла его в годичный отпуск, посоветовав употребить сей отгул как можно скорее и без лишних пересудов. Экс-губернатору надлежало немедленно покинуть русские пределы, чем серьезно опечалились цесаревич Павел и великая княгиня Мария. Но их заступничество никаких последствий не возымело: государыня была не на шутку разгневана поступками “удальца”.
Огорчение престолонаследной четы имело, помимо прочего, и весьма прагматичную подоплеку. Как позднее рассказывал вхожий в царские палаты князь Федор Голицын, Августа, благодарная за избавление от семейного “рая”, поведала Екатерине обо всем слышанном “на вечеринках у великого князя, хотя там большую всегда осторожность в речах употребляли, и великий князь сего чрезвычайно остерегался”. Да, когда дворцовая Золушка порвала с вюртембергским семейством, она сообщила августейшей покровительнице много разного и любопытного из интимного быта в Павловске, Гатчине, а равно заграничном Монбельяре, где жили родители Марии Феодоровны и где тоже велись порою “крамольные” беседы.

Что же касается мнимой осторожности взбалмошного наследника цесаревича, то мы хорошо помним, сколь мало соблюдал он ее даже на пике своей европейской поездки, когда вместе с женой под именем графов Северных (Du Nord) долго путешествовал по Старому Свету. Между тем заботливая матушка, Екатерина Алексеевна, донельзя любила выслушивать приватную информацию о поведении и настроениях всех своих родных и близких, всех вельмож и лакеев. И словоохотливая Зельмира оказалась очень кстати, в нужную минуту на нужном месте.
Безумный твой порыв я забываю
Бывшая всегда настороже повелительница, узнав кое-какие дополнительные подробности, нахмурила брови. Царице доложили, что Фридрих Вюртембергский, злоупотребив русским гостеприимством, завязал тайные контакты со шведами ради некоего “действа” на благо престолонаследника Павла Петровича и вообще дурно влиял на него – понятно, в каком направлении. Екатерину охватила подлинная ярость: она сказала своему кабинет-секретарю Александру Храповицкому, что герцог “заслужил кнут, ежели не закрыли мерзких дел его”. И это при том, что оглашенная полутора годами ранее, весной 1785-го, Жалованная грамота дворянству чеканила ясно и строго: “Телесное наказание да не коснется до благородного”. Но гнев человеческий (а тем паче женский и монарший) может не знать никаких преград!
Как часто происходит в таких случаях, к придворной интриге стали “подтягиваться” иностранные дипломаты. В начале следующего, 1787 года Павел Петрович дважды откровенно побеседовал с прусским послом, высказав ему свое личное отношение к громкому семейному эпизоду. А граф Дорофей Людвиг Христофор фон Келлер старательно и досконально переложил все в докладе обожаемому кайзеру. Уточним: бессменный и бездетный король Фридрих II Великий, с коим русские сражались еще в разгар Семилетней войны, а в 1760-м взяли у него Берлин, скончался в августе 1786-го, и на прусский трон воссел племянник суверена по мужской линии Фридрих Вильгельм II (кто, кстати, построил в своей столице Бранденбургские ворота). Поэтому посольские донесения шли, так сказать, по новому адресу.
“Пользуюсь случаем представить Вашему Величеству подробный отчет о двух аудиенциях, которые я имел недавно у русского великого князя и о которых упоминал в предыдущей депеше, – всеподданнейше доносил в Шарлоттенбург граф Келлер. – В первую нашу беседу великий князь сам заговорил о Фридрихе Вюртембергском, кого хвалил за ум, знания и трудолюбие, порицая при этом за надменность и вспыльчивость, вследствие чего можно было предвидеть с момента поступления герцога на русскую службу, что он недолго удержится на своих постах. Его императорское высочество признался мне, однако, что огорчен грубым увольнением герцога и – особенно! – побудительными причинами, каковыми руководствовалась императрица при высылке его из России”.
Далее, отмечал Келлер, цесаревич пожаловался своему визави, что государыня напрасно опасалась каких-либо “начинаний” в его пользу со стороны иноземца, не имевшего здесь даже друзей. “Я, – уточнил Павел, – никогда не одобрил бы ничего подобного. Конечно, не мне судить, насколько справедливо было учиненное 24 года тому назад” (летом 1762-го, когда мать Павла, Екатерина Алексеевна, руками гвардии свергла с трона своего мужа, Петра III Феодоровича, отца Павла, и, оперативно ликвидировав его, надела на голову русскую корону. – Я.Е.). “Весь народ, – добавил великий князь, – присягнул тогда государыне, поныне над ним царствующей. Являлась ли эта присяга искренней или притворной, не знаю, но я (кому в ту роковую минуту не исполнилось еще и восьми лет. – Я.Е.) был очевидцем общей покорности.”
“Это событие, – посетовал Павел, – лежит на совести людей, живших в ту далекую эпоху. Что же до меня, то хочу быть в ладах с собственной совестью. Всегда и везде я советуюсь с нею, не делаю ничего противного ей, и сие счастье предпочитаю той более блестящей роли, которая может предстоять мне в истории. Впрочем, не ведаю, будет ли передано ей мое имя. Таковы мои истинные чувства – их должны бы учитывать все окружающие, кому не следует забывать о случае, при котором я открыто высказал их”. На этом, доносил дипломат, престолонаследник остановился, как бы переводя дух.
Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа
Граф Келлер, излагая чуть не в протокольном виде весь ход доверительного “рандеву”, сообщил кайзеру о своих раздумьях и сомнениях. Поначалу он полагал, что речь идет о некоем “сборище” и восторженных кликах, которые имели место в Москве, когда юный Павел проехал там во главе своего полка. Но, как оказалось, это было не совсем так. Павел Петрович разъяснил послу: всякий раз, когда он выходил на улицу в древней русской столице, его окружал ликующий народ, но случай успокоить императрицу по поводу всех ее опасений произошел не в Москве, а в Петербурге, под сводами Зимнего дворца.
Затем, по свидетельству дипломата, цесаревич заговорил о необходимости избавить народ от привычки к действам, которые неоднократно повторялись в истекающем XVIII столетии. Сей словесный пассаж позволил Келлеру вставить, как он выразился, “несколько космополитических замечаний относительно отсутствия в России юридически установленной модели правильного престолонаследия (порушенной, увы, волей Петра I еще в феврале 1722 года, спустя короткий срок после убийства злосчастного царевича Алексея. – Я.Е.)”. То есть перехода высшей власти от отца к сыну. Павел Петрович не стал уклоняться от ответа. “Я, – поделился он с влиятельным собеседником, – рассчитываю когда-либо восполнить таковой пробел. Но хотя природа, дав мне сыновей (Александра и Константина. – Я.Е.), указала прямой способ восстановить допетровский порядок по передаче высших державных полномочий, я не вполне убежден, хорошо ли будет внедрить у нас систему, не существующую даже в королевской Франции, где законы отличаются достаточной определенностью”.
Безумный твой порыв я забываю
Бывшая всегда настороже повелительница, узнав кое-какие дополнительные подробности, нахмурила брови. Царице доложили, что Фридрих Вюртембергский, злоупотребив русским гостеприимством, завязал тайные контакты со шведами ради некоего “действа” на благо престолонаследника Павла Петровича и вообще дурно влиял на него – понятно, в каком направлении. Екатерину охватила подлинная ярость: она сказала своему кабинет-секретарю Александру Храповицкому, что герцог “заслужил кнут, ежели не закрыли мерзких дел его”. И это при том, что оглашенная полутора годами ранее, весной 1785-го, Жалованная грамота дворянству чеканила ясно и строго: “Телесное наказание да не коснется до благородного”. Но гнев человеческий (а тем паче женский и монарший) может не знать никаких преград!
Как часто происходит в таких случаях, к придворной интриге стали “подтягиваться” иностранные дипломаты. В начале следующего, 1787 года Павел Петрович дважды откровенно побеседовал с прусским послом, высказав ему свое личное отношение к громкому семейному эпизоду. А граф Дорофей Людвиг Христофор фон Келлер старательно и досконально переложил все в докладе обожаемому кайзеру. Уточним: бессменный и бездетный король Фридрих II Великий, с коим русские сражались еще в разгар Семилетней войны, а в 1760-м взяли у него Берлин, скончался в августе 1786-го, и на прусский трон воссел племянник суверена по мужской линии Фридрих Вильгельм II (кто, кстати, построил в своей столице Бранденбургские ворота). Поэтому посольские донесения шли, так сказать, по новому адресу.
“Пользуюсь случаем представить Вашему Величеству подробный отчет о двух аудиенциях, которые я имел недавно у русского великого князя и о которых упоминал в предыдущей депеше, – всеподданнейше доносил в Шарлоттенбург граф Келлер. – В первую нашу беседу великий князь сам заговорил о Фридрихе Вюртембергском, кого хвалил за ум, знания и трудолюбие, порицая при этом за надменность и вспыльчивость, вследствие чего можно было предвидеть с момента поступления герцога на русскую службу, что он недолго удержится на своих постах. Его императорское высочество признался мне, однако, что огорчен грубым увольнением герцога и – особенно! – побудительными причинами, каковыми руководствовалась императрица при высылке его из России”.
Далее, отмечал Келлер, цесаревич пожаловался своему визави, что государыня напрасно опасалась каких-либо “начинаний” в его пользу со стороны иноземца, не имевшего здесь даже друзей. “Я, – уточнил Павел, – никогда не одобрил бы ничего подобного. Конечно, не мне судить, насколько справедливо было учиненное 24 года тому назад” (летом 1762-го, когда мать Павла, Екатерина Алексеевна, руками гвардии свергла с трона своего мужа, Петра III Феодоровича, отца Павла, и, оперативно ликвидировав его, надела на голову русскую корону. – Я.Е.). “Весь народ, – добавил великий князь, – присягнул тогда государыне, поныне над ним царствующей. Являлась ли эта присяга искренней или притворной, не знаю, но я (кому в ту роковую минуту не исполнилось еще и восьми лет. – Я.Е.) был очевидцем общей покорности.”
“Это событие, – посетовал Павел, – лежит на совести людей, живших в ту далекую эпоху. Что же до меня, то хочу быть в ладах с собственной совестью. Всегда и везде я советуюсь с нею, не делаю ничего противного ей, и сие счастье предпочитаю той более блестящей роли, которая может предстоять мне в истории. Впрочем, не ведаю, будет ли передано ей мое имя. Таковы мои истинные чувства – их должны бы учитывать все окружающие, кому не следует забывать о случае, при котором я открыто высказал их”. На этом, доносил дипломат, престолонаследник остановился, как бы переводя дух.
Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа
Граф Келлер, излагая чуть не в протокольном виде весь ход доверительного “рандеву”, сообщил кайзеру о своих раздумьях и сомнениях. Поначалу он полагал, что речь идет о некоем “сборище” и восторженных кликах, которые имели место в Москве, когда юный Павел проехал там во главе своего полка. Но, как оказалось, это было не совсем так. Павел Петрович разъяснил послу: всякий раз, когда он выходил на улицу в древней русской столице, его окружал ликующий народ, но случай успокоить императрицу по поводу всех ее опасений произошел не в Москве, а в Петербурге, под сводами Зимнего дворца.
Затем, по свидетельству дипломата, цесаревич заговорил о необходимости избавить народ от привычки к действам, которые неоднократно повторялись в истекающем XVIII столетии. Сей словесный пассаж позволил Келлеру вставить, как он выразился, “несколько космополитических замечаний относительно отсутствия в России юридически установленной модели правильного престолонаследия (порушенной, увы, волей Петра I еще в феврале 1722 года, спустя короткий срок после убийства злосчастного царевича Алексея. – Я.Е.)”. То есть перехода высшей власти от отца к сыну. Павел Петрович не стал уклоняться от ответа. “Я, – поделился он с влиятельным собеседником, – рассчитываю когда-либо восполнить таковой пробел. Но хотя природа, дав мне сыновей (Александра и Константина. – Я.Е.), указала прямой способ восстановить допетровский порядок по передаче высших державных полномочий, я не вполне убежден, хорошо ли будет внедрить у нас систему, не существующую даже в королевской Франции, где законы отличаются достаточной определенностью”.

Заметив про себя, что беседа явно выходит за рамки случившегося с герцогом Фридрихом Вюртембергским и обретает гораздо более широкий контекст, герр Келлер пришел к выводу, что Павел весьма расположен к французам – и ко двору Людовика XVI, и к простому народу. А цесаревич, прощаясь, как бы поставил смысловую точку: “Кажется, – обронил он, – я ясно высказался перед вами, граф. Это, если хотите, была исповедь, являвшаяся моим долгом по отношению к посланцу европейского государя, к коему я привязан крепче всего”. Получалось “по факту”, что Павел Петрович симпатизирует не столько французам, сколько немцам-пруссакам. Что ж, о вкусах не спорят, а чувства не опровергают. Но вот надо ли было глубоко посвящать иноземного эмиссара в интимные русские секреты и интриги, голубокровный правдолюбец, вероятно, не подумал...
Яков ЕВГЛЕВСКИЙ.
На снимках: герцог Пауль Карл Фридрих Август Вюртембергский (1754–1816), родной брат русской великой княгини, а впоследствии императрицы Марии Феодоровны; старая Москва: вид из Кремля на За-
москворечье. Здесь бывал и престолонаследник Павел Петрович. Конец XVIII века.
Яков ЕВГЛЕВСКИЙ.
На снимках: герцог Пауль Карл Фридрих Август Вюртембергский (1754–1816), родной брат русской великой княгини, а впоследствии императрицы Марии Феодоровны; старая Москва: вид из Кремля на За-
москворечье. Здесь бывал и престолонаследник Павел Петрович. Конец XVIII века.
22 июля 2024
Поделитесь новостью в ваших социальных сетях
