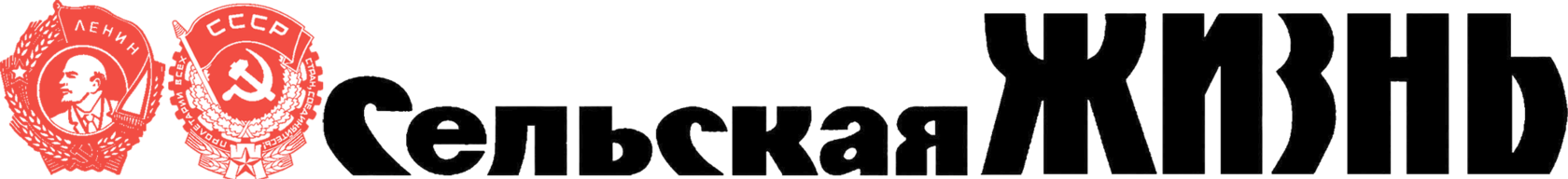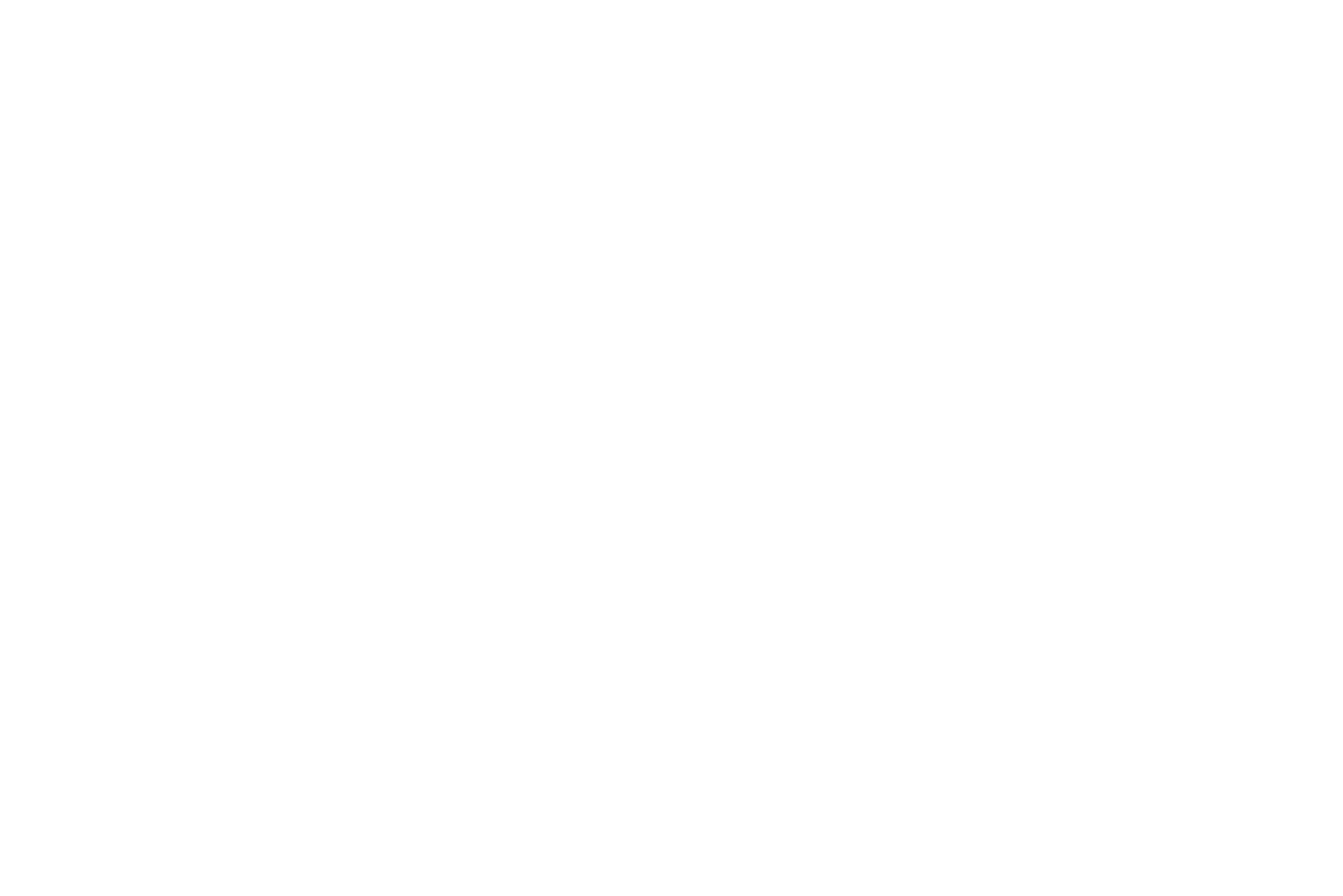
Новости Сельской Жизни
Оставьте ваш e-mail, чтобы получать актуальную информацию от редакции газеты Сельская Жизнь.
Мы рано стали взрослыми
(Продолжение. Начало в “СЖ” № 42.)
(Продолжение. Начало в “СЖ” № 42.)
...Но засиживаться в гостях даже в этом возрасте нельзя. Надо было полоть и поливать несколько грядок овощей с сестрой. Чуть подросли – дважды окучивать картошку. Без нее не выжили бы мы, буржуи. Сегодня некоторые дачники стонут: трудно обработать 5 соток. У нас огород (по-вятски осырок) был 60 соток. Половина – под картошкой. Протяпай столько – руки отвалятся. Копали вдвоем с мамой, сестра помогала ссыпать урожай в мешки, а я один носил их в погреб и засыпал “в закрома”. Да ячмень сеяли вручную из ведра. Когда созреет, начисто подметали место на улице возле дома, расстилали брезентуху, на нее снопы, и мы с мамой деревянными молотилами в такт друг другу вымолачивали зерно. Его просеивали через решето, на каменных жерновах мололи, муку сеяли через сито, потом мама пекла вкуснейшие лепешки, подливая на сковородку немного подсолнечного масла (чекушка на год). Но, в основном выручала рожь-матушка, пшеница в наших краях не росла. Женщины жали рожь и ячмень серпами, перевязывали снопы, ставили в суслоны, а ячмень в бабки. Потом их складывали колосками внутрь на телегу, прижимали сверху бастригом и везли на ток в Городище, на молотилку, комбайнов тогда в колхозе еще не было.
После обмолота ржи и выполнения плана по сдаче хлеба государству мы получали и свою долю от урожая: по 300 граммов зерна на трудодень. Копешку сена и соломы для живности на дворе. И я уже говорил, 1 кг сахара за сенокос. И всё.
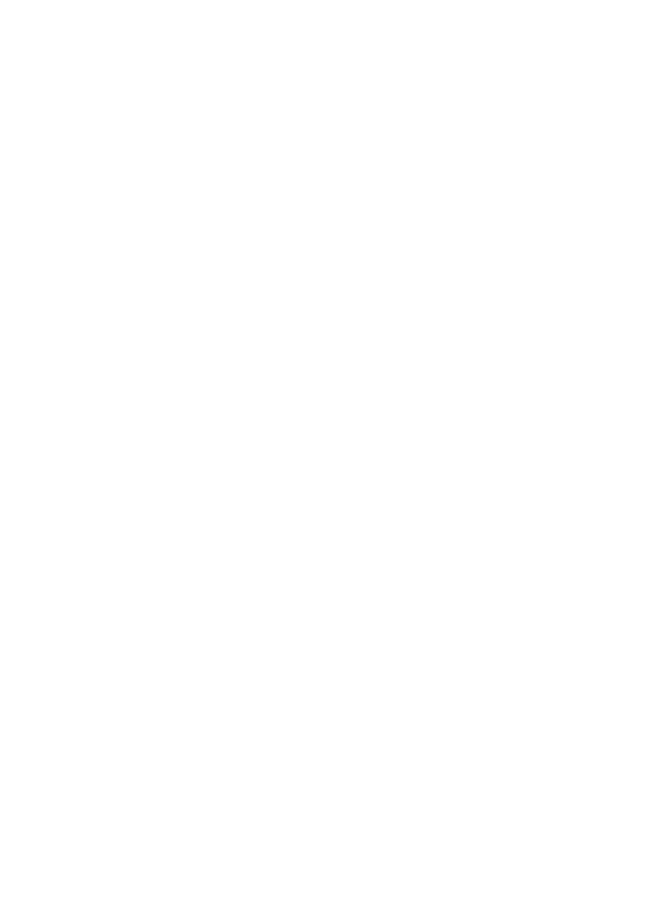
Я хотел учиться в Суворовском училище.
Зато каждое хозяйство должно было сдать государству 300 литров молока, неважно, есть в хозяйстве корова или нет. Когда мы остались без коровы, то вынуждены были покупать сливочное масло, сами не ели, но сдавали на молзавод в Городище вместо молока, а также 300 яиц отнести на инкубаторную станцию и даже телегу навоза, если есть скотина, и несколько ведер золы как удобрение на поле. Но больше всего женщины боялись госзаймов на восстановление народного хозяйства. Денег-то не было, кроме пенсии на детей за погибших отцов. Прятались от инспекторов на чердаках, даже в поле. Но никому не удалось избежать этих “добровольных” взносов. Помню, утром на разнарядке женщины зашумели: денег нет на обувь для детей, а с нас какие-то займы дерут. Бригадир дядя Паля уговаривал: “Тише, бабоньки, тише, услышит кто, ведь арестуют нас всех”.
Наша семья, да и другие, у которых погибли отцы, всегда была в работе. В колхозе, дома. От этих трудодней зависело, как мы переживем зиму. Летом было проще, когда в лесу пойдут грибы, ягоды, а на сенокосе мы оставались ночевать в шалашах. На ровных лугах траву косили конной косилкой, в кочках – косами вручную. Высохшее в прокосах сено девчонки и старушки сгребали в валки. Мужики метали его в стог, а мы на волокушах подвозили копны к нему. Мне дали быка Борьку, о его горбатую спину я до крови стер задницу, мама смазывала ее гусиным жиром. Как я дотерпел до конца сенокоса, не знаю. Но трудодни и кусок сахара даже со стертой задницей для семьи зарабатывал.
Заработанное зерно мы с Зиной зимой возили на салазках на ветряную мельницу. Помогал мельнику заносить мешок наверх и ссыпать зерно на жернова, потом выгребали муку из деревянного ларя в мешок и везли домой.
Мама сильно простыла на лесозаготовках, застудила легкие, стала астматиком и все равно тянула две работы: стала почтальоном на три деревни, а потом до 12 ночи вместе с другими женщинами мерзлую картошку из буртов на спиртзаводе возила тележками в цех. В одну из деревень, Сосновку, почту доставлял я. Вставал на лыжи и спешил, чтобы до темноты разнести письма и газеты. Обратно потемну бежал через овраг и боялся волков. Через день запрягал быка Борьку и с большой бочкой ехал на спиртзавод за бардой для фермы. Потом надо было выполнить свои обязанности по дому: принести два ведра воды из глубокого колодца, в котором даже летом внизу не оттаивал лед. Напилить и наколоть дров, причем я наловчился пилить их двуручной пилой один, колоть рыхлую осину или ровную сосну на поленья с одного раза, для березы требовались железные клинья.
Когда из военкомата пришел посыльный, онсказал, что меня могут послать на учебу в Казанское суворовское училище, как сына погибшего офицера, мама заявила: “Не пущу. Мы с Зинушкой не сможем одни прожить”.
Не помню ничего хорошего о школьном времени. Весь сентябрь – та же работа: теребить лен, копать вилами картошку до белых мух в разных колхозах, на каникулах метать стога сена с мужиками, возить керосин к комбайну, а затем – помощником комбайнера на копнителе. О пионерских лагерях я узнал позже, чем попали мои одноклассники в лагеря для несовершеннолетних. Из-за постоянной голодухи пошли на воровство. Голод преследовал нас много лет. Когда за строптивость меня выгнали из школы на две недели, я пару дней болтался с детдомовцами по Санчурску. “Есть хочешь? – спросили пацаны. – Пойдем на рынок. Вон бабушка пирожки продает, хватай, мы отвлечем”. Было противно. Судьба отвела от кривой дорожки, поддержка родни в трудную минуту или чтение интересных книг с благородными героями?
Вместо Санчурска я, делая вид, что собрался в школу, уходил в Пигозино к деду в кузню. Он делал подковы для лошадей. Я раздувал горн, двоюродный брат Борис приносил поковку, когда она раскалялась добела, нес на горн и тяжелым молотом плющил ее в нужной толщины полоску, податливое железо сгибали, а дед молоточком превращал ее в аккуратную подкову с отверстиями для гвоздей. Кстати, имя братана Бориса спасало меня даже от старших хулиганистых братьев Фубиков (кличка), когда они возвращались после отсидки или воровских гастролей по городам и затевали драки, рисуясь блатными наколками вроде “Не забуду мать родную”, а пацанам запросто, мимоходом, могли дать леща или пинка. Бориса с его двухметровым ростом и мускулами молотобойца боялись, как и весь район. Отец его, мой родной дядя Арсентий, погиб вместе с земляками, когда их везли в эшелоне на помощь Ленинграду. Без прикрытия с воздуха. И немцы сожгли весь эшелон, никого не осталось. Сколько родственники ни пытались найти погибших, не нашли. Как у А. Твардовского: “И во всем этом мире, до конца его дней, ни петлички, ни лычки. С гимнастерки моей”.
Я научился читать и считать рано. Но мы берегли керосин, поэтому лампа у нас была с узким фитильком, семилинейная, а не десяти. В девять вечера мама и ее гасила: хватит читать, завтра рано вставать. Четвертый класс окончил на отлично. Всех отличников пригласили в школу, накормили картофельной похлебкой и налили по стакану сладкого чая. Потом пошли на праздник в Санчурск в горсад. Там играла веселая музыка, и нарядные дети шли под руку с отцами и ели мороженое. А у меня единственные штаны с пузырями на коленках, заношенная рубашка и ни копейки в кармане.
Наша семья, да и другие, у которых погибли отцы, всегда была в работе. В колхозе, дома. От этих трудодней зависело, как мы переживем зиму. Летом было проще, когда в лесу пойдут грибы, ягоды, а на сенокосе мы оставались ночевать в шалашах. На ровных лугах траву косили конной косилкой, в кочках – косами вручную. Высохшее в прокосах сено девчонки и старушки сгребали в валки. Мужики метали его в стог, а мы на волокушах подвозили копны к нему. Мне дали быка Борьку, о его горбатую спину я до крови стер задницу, мама смазывала ее гусиным жиром. Как я дотерпел до конца сенокоса, не знаю. Но трудодни и кусок сахара даже со стертой задницей для семьи зарабатывал.
Заработанное зерно мы с Зиной зимой возили на салазках на ветряную мельницу. Помогал мельнику заносить мешок наверх и ссыпать зерно на жернова, потом выгребали муку из деревянного ларя в мешок и везли домой.
Мама сильно простыла на лесозаготовках, застудила легкие, стала астматиком и все равно тянула две работы: стала почтальоном на три деревни, а потом до 12 ночи вместе с другими женщинами мерзлую картошку из буртов на спиртзаводе возила тележками в цех. В одну из деревень, Сосновку, почту доставлял я. Вставал на лыжи и спешил, чтобы до темноты разнести письма и газеты. Обратно потемну бежал через овраг и боялся волков. Через день запрягал быка Борьку и с большой бочкой ехал на спиртзавод за бардой для фермы. Потом надо было выполнить свои обязанности по дому: принести два ведра воды из глубокого колодца, в котором даже летом внизу не оттаивал лед. Напилить и наколоть дров, причем я наловчился пилить их двуручной пилой один, колоть рыхлую осину или ровную сосну на поленья с одного раза, для березы требовались железные клинья.
Когда из военкомата пришел посыльный, онсказал, что меня могут послать на учебу в Казанское суворовское училище, как сына погибшего офицера, мама заявила: “Не пущу. Мы с Зинушкой не сможем одни прожить”.
Не помню ничего хорошего о школьном времени. Весь сентябрь – та же работа: теребить лен, копать вилами картошку до белых мух в разных колхозах, на каникулах метать стога сена с мужиками, возить керосин к комбайну, а затем – помощником комбайнера на копнителе. О пионерских лагерях я узнал позже, чем попали мои одноклассники в лагеря для несовершеннолетних. Из-за постоянной голодухи пошли на воровство. Голод преследовал нас много лет. Когда за строптивость меня выгнали из школы на две недели, я пару дней болтался с детдомовцами по Санчурску. “Есть хочешь? – спросили пацаны. – Пойдем на рынок. Вон бабушка пирожки продает, хватай, мы отвлечем”. Было противно. Судьба отвела от кривой дорожки, поддержка родни в трудную минуту или чтение интересных книг с благородными героями?
Вместо Санчурска я, делая вид, что собрался в школу, уходил в Пигозино к деду в кузню. Он делал подковы для лошадей. Я раздувал горн, двоюродный брат Борис приносил поковку, когда она раскалялась добела, нес на горн и тяжелым молотом плющил ее в нужной толщины полоску, податливое железо сгибали, а дед молоточком превращал ее в аккуратную подкову с отверстиями для гвоздей. Кстати, имя братана Бориса спасало меня даже от старших хулиганистых братьев Фубиков (кличка), когда они возвращались после отсидки или воровских гастролей по городам и затевали драки, рисуясь блатными наколками вроде “Не забуду мать родную”, а пацанам запросто, мимоходом, могли дать леща или пинка. Бориса с его двухметровым ростом и мускулами молотобойца боялись, как и весь район. Отец его, мой родной дядя Арсентий, погиб вместе с земляками, когда их везли в эшелоне на помощь Ленинграду. Без прикрытия с воздуха. И немцы сожгли весь эшелон, никого не осталось. Сколько родственники ни пытались найти погибших, не нашли. Как у А. Твардовского: “И во всем этом мире, до конца его дней, ни петлички, ни лычки. С гимнастерки моей”.
Человек без паспорта
Я научился читать и считать рано. Но мы берегли керосин, поэтому лампа у нас была с узким фитильком, семилинейная, а не десяти. В девять вечера мама и ее гасила: хватит читать, завтра рано вставать. Четвертый класс окончил на отлично. Всех отличников пригласили в школу, накормили картофельной похлебкой и налили по стакану сладкого чая. Потом пошли на праздник в Санчурск в горсад. Там играла веселая музыка, и нарядные дети шли под руку с отцами и ели мороженое. А у меня единственные штаны с пузырями на коленках, заношенная рубашка и ни копейки в кармане.

Старый дом наш давно ссутулился.
Не знаю, что на меня нашло, но я убежал от веселья через наплавной мост на другой берег Кокшаги, лег на траву и, неожиданно для себя, заплакал. Не было такого со мной давно. Только до школы, когда я не плакал, а, как говорили бабы в нашем конце деревни, орал. Как-то расчистили немного льда на пруду и катались по нему на валенках. Я разбежался, покатился и ухнул в прорубь, в которой женщины полоскали белье. Ушел с головкой. Хорошо, что вынырнул в том же месте. Пацаны схватили кто за что и вытащили на лед, сняли валенки и вылили воду. Но – морозяка. Штаны – колом, пальтишко сестры – тоже. Знал, что сейчас дома попадет по одному месту, и заранее начал громко реветь, как будто уже наказан. Женщины, собирающиеся после работы у колодца, говорили: “Юрка Дунин орет. Опять натворил что-нибудь”.
...На этот раз текли настоящие слезы. Я смотрел в небо и вдруг увидел самолет, который заходил на посадку над нашим городком. И так мне захотелось быть там, в голубом небе, за штурвалом “Аннушки”. Подумал, что стану летчиком, и на душе стало радостно. Так детское горе через пару минут превратилось в какое-то светлое ожидание будущего. Позже, прожив жизнь, я понял, что она состоит из моментов, которые отпечатываются в мозгу, в сердце, в памяти. Их не так уж много, но этот, на берегу реки, – один из них.
До 7-го класса я донашивал женские пальто за Зиной. Потом мы с одноклассником Леней Милютиным стали зарабатывать деньги. У него мать была уборщицей в Городищенской школе и договорилась, что вместо мужиков все дрова на зиму, 140 кубометров, мы распилим, расколем, уложим. Справились за 10 дней. Тогда я впервые купил у троюродного брата, вернувшегося после службы в Венгрии, наручные часы и, само собой, учебники, в подарок получил солдатскую фуражку. На другой год летом мы уже вдвоем от автороты поехали грузчиками в лес.
Юрий БАКЛАНОВ.
Фото из архива автора.
(Продолжение – в следующем номере.)
...На этот раз текли настоящие слезы. Я смотрел в небо и вдруг увидел самолет, который заходил на посадку над нашим городком. И так мне захотелось быть там, в голубом небе, за штурвалом “Аннушки”. Подумал, что стану летчиком, и на душе стало радостно. Так детское горе через пару минут превратилось в какое-то светлое ожидание будущего. Позже, прожив жизнь, я понял, что она состоит из моментов, которые отпечатываются в мозгу, в сердце, в памяти. Их не так уж много, но этот, на берегу реки, – один из них.
До 7-го класса я донашивал женские пальто за Зиной. Потом мы с одноклассником Леней Милютиным стали зарабатывать деньги. У него мать была уборщицей в Городищенской школе и договорилась, что вместо мужиков все дрова на зиму, 140 кубометров, мы распилим, расколем, уложим. Справились за 10 дней. Тогда я впервые купил у троюродного брата, вернувшегося после службы в Венгрии, наручные часы и, само собой, учебники, в подарок получил солдатскую фуражку. На другой год летом мы уже вдвоем от автороты поехали грузчиками в лес.
Юрий БАКЛАНОВ.
Фото из архива автора.
(Продолжение – в следующем номере.)
12 ноября 2025
Поделитесь новостью в ваших социальных сетях